Макаренко Вадим Владимирович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН. Статья опубликована в сборнике: Мусульманские страны современного мира — идентичность, экономика, политика. М.: ИВ РАН, 2025.
Аннотация. В статье рассматриваются причины длительной политической нестабильности на Ближнем и Среднем Востоке, начавшейся после падения Османской империи и революции в Персии. В составе этих континентальных империй на основе лояльности к общей идентичности (опиравшейся на ислам в сочетании с династийным правлением) сосуществовало множество этнических и конфессиональных общностей, которые вне подобных рамок обычно конкурируют друг с другом. Их примирение достигалось благодаря выработанному империями, сменявшими друг друга на пространстве Ближнего и Среднего Востока, способу общения (в основе которого лежал отказ от политико-административного растворения, а тем более от ассимиляции этнических и конфессиональных групп), без которого им бы не удалось консолидировать столь разнородные и многочисленные общности на обширном пространство. После разрушения континентальных держав внешними силами и возникновения на их территориях новых стран их элиты, представлявшие разночинную военную и городскую интеллигенцию, стремились внедрить в своих странах западную модель государства-нации, в том числе устранить этнические и религиозные различия в своих странах. Этот выбор привел к резкому обострению межэтнических и межконфессиональных конфликтов, которые стали основной причиной частой смены режимов. Но ни одной из стран Ближнего и Среднего Востока не удалось внедрить у себя идентичность западного образца. Принципиальная причина неприемлемости для стран Ближнего и Среднего Востока модели государства-нации заключается в различной природе региональных сообществ и механизмов поддержания идентичности в странах Европы и на Ближнем и Среднем Востоке, обусловленных различиями в их макрорегиональной ландшафтной композиции, агроклиматических и иных природных условиях, в особенностях их предшествующего исторического развития. Стабилизация ситуации в странах Ближнего и Среднего Востока возможна только в случае признания традиционно важной социально-политической роли социально-территориальных общностей (родоплеменных и религиозных общин) и предоставления им возможности участвовать на выборной основе в органах всех уровней власти с передачей значительного объема социально-административных полномочий на региональный (провинциальный) и местный уровни власти.
Введение
Прошло более ста лет после падения Османской империи (1918–1922) и конституционной революции в Персии (1905– 1911), однако это огромное постимперское пространство Ближнего и Среднего Востока (БСВ), поделенное на территории суверенных государств, остается зоной повышенной турбулентности. Оно практически не поддается усилиям по строительству здесь современных государств и наций, которые предпринимались различными акторами. Уже были опробованы модели колониального синтеза, была попытка провести преобразования на основании мандата Лиги Наций, а после получения независимости было много попыток установления различных по политической ориентации политических режимов. Великие державы также предпринимали здесь попытки внедрения своих моделей социально-политического устройства: СССР (Афганистан, 1979–1989), США (Афганистан, 2001–2021; Ирак, 2003–2011). Все усилия оказались напрасными. Преобразования упирались в острые этноконфессиональные противоречия. Причем важно, что, помимо противоречий между конфессиями и крупными этносами, внутри этих образований существует деление на многочисленные конкурирующие между собой родоплеменные и религиозные общины, которые имеют территориальную привязку, что делает их де факто субъектами, заинтересованными в установлении своей власти на занимаемых территориях, а также побуждает их добиваться законного признания своих прав.
Относительный успех в государственном строительстве наблюдается преимущественно в тех странах, где утвердилась монархическая форма правления, но и то только там, где правящей местной мусульманской династии удалось найти равновесие и сохранить мир между племенами, предложив им традиционный вариант участия во власти через иерархию династийного устройства государства. В ряде стран монархическая форма правления не удержалась, а в возникших на их месте республиках политическая стабильность не наступила, поскольку не удалось найти такие формы организации обществ, которые бы соответствовали этнической структуре населения этих стран. Единственное исключение и пример относительно стабильного развития – это Египет, но в этой стране фактор родоплеменных отношений был исторически сильно ослаблен, а в той мере, в какой он сохранился до сих пор, он локализован на ее периферии и почти не влияет на характер политической власти в стране в целом. Египет – это единственное общество, которое нельзя отнести к типу глубоко разделенных обществ, к которому принадлежат практически все страны БСВ, что и определяет специфику его политического развития. Но и его структуру политической власти из-за доминирующей, государствообразующей роли корпорации офицерского корпуса, особой роли исламского духовенства (улемов) и колоссальной пассивности (многочисленного и все еще весьма традиционного, но парцелярного, а не общинного) крестьянства, вряд ли можно назвать современной. Это, скорее, сословно-корпоративное государство с военно-олигархическим уклоном, особенно с учетом его глубоких военно-корпоративных традиций, поскольку "...политический строй Египта XVII в. точнее было бы назвать режимом военной олигархии… Можно согласиться с С. Шоу, что история османского Египта есть история повторяющихся конфликтов между членами военных объединений и между ними и представителями Порты в Египте, конфликтов, в центре которых лежало стремление к контролю над правительственной иерархией и источниками богатства или доходов...". (1) Кроме того, Египет, в отличие от остальных частей Османской империи, начал обособляться в XVIII–XIX веках, поэтому динамика его сегодняшнего развития сильно отличается от того, что наблюдается в других странах, также бывших частями Османской империи.
Основной исследовательский вопрос работы: почему в странах БСВ не удается выработать общегосударственную идентичность, хотя предыдущие формы социально-политической организации этого пространства, которые можно рассматривать как интегрированные континентальные империи, обеспечивали длительное сосуществование в их пределах множества партикуляристских общностей на основе общей идентичности. Л.И. Рейснер по поводу такого рода объектов пишет, что "частичная универсализация по одному-двум профилям общения формировала порой огромные по масштабам относительно самостоятельные межрегиональные системы социальной связи". (2) Гипотеза автора состоит в том, что причина срыва попыток адаптации обществ БСВ к новым условиям заключается в том, что политические силы, которые получали власть в странах, возникших на постимперском пространстве, пытались внедрить здесь заимствованную – западную – идентичность как единую универсальную взамен прежней утраченной при распаде Османской империи общесоциальной идентичности, сосуществовавшей с множеством родоплеменных и конфессиональных идентичностей базового уровня. При этом новые, обычно сформированные из разночинной интеллигенции политические силы, ориентируясь на западную модель, ставили перед собой задачу устранить этноконфессиональные и другие узы, считая их препятствием на пути социально-экономического роста.
Ключевым для анализа является понятие "идентичность". Оно связано с формированием моделей поведения этноса, вобравших успешные стратегии приспособления к существованию в вмещающей его нише и обеспечивающих его устойчивое воспроизводство (выживание). В процессе воспроизводства этносы создают средства производства, средства ведения войны и средства передвижения и общения, которые определяют способы производства и общения, наиболее оптимальные в конкретной занятой каждым из них хозяйственно-экологической нише, с которой общество неразрывно связано. "Жизненное пространство – Вмещающий Ландшафт суперэтноса, – по определению Э.С. Кульпина-Губайдуллина, – это и есть то пространство, на котором можно понять смысл и течение взаимодействия человека и природы". (3) Эта деятельность предполагает сотрудничество внутри этноса его структурных элементов, которое основывается на системе общественного разделения труда, позволяющей этому сложному сообществу с той или иной степенью эффективности коллективно использовать ресурсы доступной ему ландшафтно-хозяйственной ниши. Идентичность отражает основу, на которой возникают отношения солидарности в обществе, а именно: общие, тождественные (идентичные) представления всех его членов о том, как следует действовать в интересах воспроизводства (выживания, спасения) своих социально-территориальных общностей (с их особенными, партикулярными, базовыми идентичностями) и этноса в целом (на уровне которого существует общая идентичность). Отношения солидарности строятся на общей идентичности. Они придают этносу, будь то племя, народ или нация, целостность, какую бы он ни имел сложную, часто расколотую на множество локальных общностей, социально-политическую организацию. Без солидарности никакой этнос не выживет. Сложившиеся на этой основе модели общественного поведения, отражающие способ производства и способ общения, закрепляются в культуре этноса в качестве образца для всех индивидуальных членов и коллективов (как субэтносов, так и корпораций), входящих в него. Соответствие их действий этим моделям поведения является проявлением их идентичности. Все остальные характеристики, отличающие данный этнос от других (язык и символические элементы культуры, включая религиозные представления), лишь поддерживают и стимулируют проявление общегрупповой солидарности.
В сложном обществе два основных уровня солидарности, как и два основных типа идентичности: базовая, на уровне родоплеменных и религиозных общностей и надстроечная, общая для всего государственного образования. Все локальные солидарности соподчиняются общей солидарности по принципу добровольной (осознанной) лояльности. Базовая солидарность, собственная каждой из множества социально-территориальных общностей (СТО), строится по принципу обязательной (аскриптивной) лояльности, которую человек практически не может изменить, кроме как утратить ее, став изгоем для своего рода-племени, что в обществах БСВ в массе абсолютно неприемлемо. Надстроечная идентичность и связанная с ней солидарность является намного менее устойчивой, чем имеющая много аспектов, формирующих личность, солидарность в СТО, но она крайне важна, поскольку является основой мирного сосуществования всех структурных элементов в сложных обществах. Азиатские общества отличает способность менять свою надстроечную идентичность без уничтожения сонма "самодовлеющих общин", приспосабливаться к кардинальным изменениям в верхах при практически неизменяемой базовой (родоплеменной) идентичности. В этих обществах отказ от общей идентичности не ведет к гибели базовых общностей с их практически неизменяемыми идентичностями, даже подвергнувшись разрушительным воздействиям, они восстанавливаются в прежнем виде. К. Маркс отмечал эту их поразительную живучесть: "Простота производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в том же самом месте, под тем же самым именем, объясняет тайну неизменности азиатских обществ, находящейся в столь резком контрасте с постоянным разрушением и новообразованием азиатских государств и быстрой сменой их династий. Структура основных экономических элементов (курсив наш. – В.М.) этого общества не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере политики". (4) Способность азиатских обществ относительно легко менять надстроечную (общую) идентичность – это выработанный за многие века защитный механизм встраивания племен в обновляющуюся в связи с теми или иными существенными изменениями окружающей среды систему отношений интегрированного пространства, позволяющий амортизировать влияние меняющейся среды на родоплеменные и религиозные общины.
Общественная (надстроечная) идентичность представляет собой программу действий, которая дает ориентиры, позволяющие группам и индивидам реализовать "себя в качестве членов общества… Именно консенсус членов общества по поводу ценностной ориентации их собственного общества означает институционализацию ценностного образца. Безусловно, такого рода консенсус достигается в разной степени. И в этом контексте самодостаточность определяется степенью, в которой институты общества легитимизированы согласованными ценностными приверженностями его членов". (5) Собственно, это и значит определиться с общей (общегосударственной) идентичностью. Если удается сформулировать программу реформ убедительно, а иногда и просто проявить более яркую харизму, то их примет общество и, если не будет перегибов с реализаций программы, или если лидер не потеряет лицо, то сложится новый строй, отражающий способ общения, соответствующий и новым обстоятельствам, и культуре данного общества.
Главной проблемой в современных переходных обществах является конфликт между новой, воображаемой общественной идентичностью, заимствованной с Запада – региона с совершенно другой культурой, и локальными идентичностями базовых общностей, по сути, несменяемыми. Он возникает, если общая идентичность, идущая на замену предыдущей общей идентичности, которая почти всегда распадается, выбрана так, что ее конфликт с базовыми идентичностями становится неминуемым. Это является не столь уж редким явлением, хотя почти во всех обществах этого конфликта было несложно избежать. В этом смысле даже странно (и это нужно объяснить), почему этот конфликт стал камнем преткновения в развитии не одного или двух, а почти всех обществ в странах БСВ в XX веке.
Гипотеза состоит в том, что правительства реформаторов в силу своего политического или идеологического догматизма (в том числе из-за принятой ими западной модели воображаемой идентичности) были ориентированы исключительно на превращение своих стран в национальные государства. В начале XX века считалось, как пишет В.И. Ленин, цитируя К. Каутского, что "”национальное государство есть форма государства, наиболее соответствующая современным" (т. е. капиталистическим, цивилизованным, экономически-прогрессивным в отличие от средневековых, докапиталистических и проч.) условиям”…, пестрые в национальном отношении государства (так называемые государства национальностей в отличие от национальных государств) являются "всегда государствами, внутреннее сложение которых по тем или другим причинам осталось ненормальным или недоразвитым” (отсталым)". (6) Эти представления были усвоены интеллигенцией стран Востока. Это подчеркивает Анри Турен: "Европейский опыт, который так долго господствовал на мировой сцене, черпал свою силу, жестокость и пугающую способность к экспансии главным образом в уверенности, что современность должна быть создана исключительно усилиями разума и что ничто не должно противостоять тому универсализирующему влиянию, которое разрушит все социальные и культурные традиции, верования, привилегии и сообщества". (7) Интеллигенция стран Востока, став в том или ином качестве правящей силой, даже не рассматривала какой-либо иной вариант государственного строительства. Естественно, что она не собиралась договариваться (искать какой-либо способ общения) с социально-территориальными общностями (СТО), которые, как она считала, отжили свое, и казались ей слабыми и никчемными. Из-за того, что западная модель общества стала абсолютной доминантой, феномен общины все еще не понят, а точка зрения на общину в классовом обществе как на пережиток, обреченный на разложение и гибель, и на общества, где сохраняется этот институт, как на предельно отсталые и неразвитые, по справедливому мнению Л.Б. Алаева, блокирует понимание существа социально-политических процессов в странах Востока. (8) Власти в странах БСВ до сих пор не осознают потенциала СТО и того, насколько опасен конфликт с ними, который неизбежен, если не удастся включить их в современную общественную ткань. Такая когнитивно ущербная, идеологизированная позиция доминирующих на национальном уровне политических сил в БСВ и есть причина политической нестабильности в этих странах.
Идентичность в глубоко разделенных обществах
Природа ближневосточных стран как глубоко разделенных обществ (9) и неспособность их элит найти адекватную форму политической организации своих обществ определяет нынешнее критическое состояние, в котором находятся эти страны, не способные примирить разнородные в этническом и конфессиональном отношении группы населения, сохраняющего как форму своей территориальной организации родоплеменные общины и религиозные общины, т.е. СТО. Это можно сделать, приняв базовые идентичности множества СТО, и, в свою очередь, предложив им на надстроечном уровне, организующем общение в стране и на ее внешнем контуре, общегосударственную, или общую, идентичность, не конфликтующую с идентичностями базового уровня. Социально-территориальные общности в странах БСВ – ассоциации с обязательным членством, принадлежность к которым является основной (базовой) идентичностью их членов. В этих странах власть центральных правительств ограничена на местном уровне, где ситуацию контролируют СТО, отстаивающих свои права решать вопросы своих территорий в рамках традиционной юрисдикции. Из-за стремления центральной власти устранить этот непокорный уровень управления постоянно вспыхивают конфликты, время от времени перерастающие в вооруженные столкновения и даже восстания. Социально-политическая нестабильность – показатель того, что общество не достигло фазы своей зрелости, когда между его индивидуальными членами и коллективными структурами складываются отношения солидарности на базе общей идентичности и когда "его коллективный интерес будет ожидаемым образом преобладать над единичными интересами его членов, где бы они друг другу ни противоречили." (10) Однако эта ситуация имеет, как медаль, и вторую сторону – власть должна найти формулу признания локальной идентичности и установить взаимодействие с ее носителями. Это взаимодействие и составляет содержание способа общения в парадигме центр власти – локальный объект-субъект власти. Однако до сих пор центральная власть в странах БСВ в силу своих идеологических установок была настроена насаждать лояльность к государству авторитарными методами, а не добиваться этого на основе "взаимного уважения единиц к правам друг друга, связанным со статусом членства, подчинения институционализированным в коллективе ценностям и нормам или внесения позитивного вклада в достижение коллективных целей". (11) В результате в странах БСВ уже более ста лет не удается найти приемлемую для всех структурных составляющих их сообществ систему общих ценностей, и эти общества не имеют общепризнанной, скрепляющей их общегосударственной идентичности. В значительной мере эти неудачи следствие того, что власти пытались силой устранить родоплеменную или конфессиональную разделенность обществ, видя в ней первопричину конфликтов и политической нестабильности, а также отсталости своих стран по сравнению с западными. Но, несмотря на все эти усилия, им не удалось утвердить свои идеологически заданные представления о путях либерально-демократической или социалистической модернизации своих стран как универсальную для их обществ систему ценностей, т.е. как не просто общую, наряду с локальными, базовыми идентичностями, а как единственную универсальную для всего общества идентичность.
Главный способ примирить разнородные общественные элементы – это определиться с целями развития и выработать правила сосуществования социально-территориальных общин между собой и формы их взаимодействия с центральной властью путем инклюзивного нормотворчества и постоянного диалога. Это непросто. Отсюда острые баталии вокруг формирования органов власти. Эта борьба будет продолжаться, пока не сложится законодательство о выборах и о полномочиях органов исполнительной власти, которое нынешнее общество примет как справедливое, обеспечивающее представительство СТО, и будет по отношению к нему проявлять добровольную лояльность, что является критерием того, что в обществе сложился эффективный способ общения. Это, как раз, и не получается сделать в большинстве стран БСВ.
С момента обретения независимости в политике стран БСВ доминируют националисты, нацеленные на создание государств-наций, которые считают нормальным использовать в качестве основного способа общения силовые действия по подчинению и подавлению оппозиции в обществе. Этот подход заложен в европейской модели, поскольку основным способом общения в европейском региональном сообществе с момента возрождения Европы в XIII–XV веках была война, которая оказала серьезное воздействие и на внутреннюю жизнь европейских государств, став стимулом концентрации всей полноты власти (монополии на силу) в руках государства и лишения подданных любой возможности организованного сопротивления путем устранения социально-территориальных структур, которые естественным образом поддерживали солидарность населения. Формально это компенсировано правом избирать все органы власти, но лишенное органической связи население не способно противостоять влиянию стремящихся к власти организованных групп.
Именно такую политическую систему националисты почти сто лет пытались внедрить в своих странах. Они были сторонниками идеи единой, а фактически утверждаемой властью в качестве единственной, воображаемой национальной, т.е. общегражданской, идентичности, которую захватившая власть политическая группа привносит в виде призывов, лозунгов, программы действий. При этом националисты, будучи сторонниками единой нации, без разделяющих ее внутренних уз, не признают традиционные идентичности не только этнических и конфессиональных меньшинств, но и той доминирующей по численности или влиянию части населения страны, которую они рассматривают как собственную этническую основу, поскольку и ее они также пытаются решительно преобразовать, отменив внутри нее прежние родоплеменные, сословные, религиозные и другие культурные нормы (ценности), которые и составляли суть ее традиционной идентичности. Естественно, что такую программу можно провести в жизнь только с помощью диктатуры (авторитаризма). Если взять пример Турции, то ее население, которое до революции было объединено правящей династией и исламом, на взаимодействии и взаимопроникновении которых строилось институциональное единство империи, после провозглашения республики, когда они были отменены, осталось без общих культурных ценностей, кроме относительно общего языка и только что завоеванной армией победы над Грецией, которую поддерживала враждебная Антанта. С этого момента реформаторы были вынуждены опираться на воображаемый конструкт – образ победившей турецкой нации, сплоченной вокруг харизматической фигуры ее лидера – Ататюрка, а вспомогательным был "севрский синдром", вызывавший отторжение любых попыток меньшинств заявить о своих правах, а тем более добиться автономии, не говоря уже об отделении. Это и стало новой идентичностью Турции, на которую кемалисты, опиравшиеся на созданную ими армию, не позволяли покуситься никому. Основой формирования новой нации стал относительно небольшой по численности слой участников греко-турецкой войны 1919–1922 годов, а его ядром – узкая "правящая господствующая группа" (ПГГ).
"Понятие "ПГГ”, - по мнению М. Чешкова, - может использоваться и для характеристики правящих групп тех стран, где соотношение укладов, основных социально-политических сил и ориентация развития еще четко не определились. Определенное сходство в социальном генезисе, в переплетении носителей двух видов власти заметно у правящих групп в странах с резко различной идеологической ориентацией (на капитализм или социализм). Понятие "ПГГ” может быть использовано и для анализа таких ситуаций, в которых правящие группы складываются в ходе революции сверху". (12) В кемалистской Турции эта группа сложилась из военных, чьи позиции были особенно сильны в стране, где традиционно была высокая степенью автономии верховной власти по отношению к обществу. Ее начальная программа действий – восстановление суверенитета над исторической территорией, восстановление разрушенного войной и последующей революцией баланса между этническим группами – в целом объективно отвечала интересам большинства населения страны. Однако, победив в войне, новая элита ощутила себя полностью самостоятельной в своих действиях. Она провозгласила республику, порвав с османской, общеимперской идентичностью, отказавшись от султаната (1922) и от халифата (1924), которые были институциональными скрепами империи, а также отменила прежние религиозные и этнические идентичности, взамен формально предоставив права единого без разделения на этнические группы гражданства. Фокусом новой общественной идентичности стала безоговорочная лояльность государству. Но власти не учли, что отдельный гражданин, лишенный солидарной поддержки со стороны членов своей общины, не мог выжить в тех условиях хозяйствования. Потерявшая большую часть своей ресурсной базы в результате распада Османской империи, замкнутая во враждебном окружении, страна не могла изменить эти условия жизни, особенно на периферии, населенной меньшинствами. Жизнь почти всех людей в Турецкой Республике, особенно в сельской местности, напрямую зависела от солидарности родоплеменных и религиозных общин, сохранявших свою особую идентичность вопреки декретам центральной власти.
Проблемы же начались практически сразу после отказа от ислама как государственной религии, которая связывала разрозненные общины в единое целое. Это привело к протестам, особенно серьезным в курдских регионах, но правительство безжалостно подавило курдские восстания шейха Саида (1925 г.), на горе Арарат (1930 г.) и в Дерсиме (1937–1938 гг.). Более того, власть во главе с Ататюрком предоставила чиновникам "широчайшие полномочия в вопросах подавления любых проявлений оппозиции режиму". (13) И так она действовала не только в чрезвычайных, но практически во всех сколько-либо спорных вопросах, связанных с реализуемой ею программой реформ. Налаживание межэтнического диалога внутри общества было заморожено авторитарными порядками, которые напрямую отражали новый – административно-хозяйственный и военно-полицейский – способ общения. Из-за этого кемалистская система ценностей, основа новой воображаемой национальной идентичности, не стала общей, сплачивающей, культурой даже для всех элитарных групп турецкого общества, а в масштабах всей страны она сделала более явным территориально-этническое разделение ее населения, усилив угрозу дезинтеграции Турции.
Кризис кемалистского проекта "Новой Турции", который определял официальную идентичность, начался с уходом из жизни Мустафы Кемаля и других политиков, образовывавших ПГГ, солидарность внутри которой несколько десятилетий была основой стабильности турецкой государственности, но, как выяснилось, линии будущего раскола прошли и внутри элиты. Кемалистское руководство Турции после 1945 года начало реформы сверху, под влиянием США встав на путь демократизации общества. Необходимость экономических реформ и опасения за свою безопасность в связи с изменением баланса сил в регионе и в мире подтолкнули Турцию, просуществовавшую почти три десятилетия в полу-изоляции, к действию. Шаги по демократизации общества резко усилили политическую конкуренцию, как оказалось, разнородных сил в элите и туже затянули узел проблем вокруг принятия общей идентичности, которая могла бы примирить всех граждан страны. Кроме того, было ослаблено государственное регулирование и начаты экономические реформы, но о разрешении этноконфессиональных противоречий, подавленных в рамках националистического подхода, речь не шла. Быстрее всего проявились последствия политической реформы: введение многопартийности и демократизация парламентских выборов раскололи правящую элиту и практически мгновенно изменили политический ландшафт страны. Начался новый длительный цикл политических изменений.
Турецкий опыт важен, чтобы понять, что формирование зрелых, внутренне гармоничных или хотя бы гомогенных, сообществ – это не краткосрочная задача, что для ее решения может потребоваться сто и более лет, чего не осознавали социальные реформаторы и их противники в начале XX века, сталкиваясь с революциями, которые, как казалось, за несколько дней меняли страну. Революции, как бы славно они ни начинались, могут обернуться поражением через десятки лет, если им не удастся создать идентичность (систему ценностей), которую разделяет все или почти все общество. Попытки пытаться навязать населению силой систему ценностей (идентичность) правящей господствующей группы в качестве универсальной в странах БСВ закончились провалом. Это заставляет поставить вопрос, чем различаются условия Европы и Ближнего и Среднего Востока, которые не позволяют внедрить модель государства-нации на БСВ.
Государственное строительство в странах БСВ шло преимущественно по пути создания государств-наций, казалось бы, уже успешно опробованному Западом, при этом основные усилия направлялись на преодоление этноконфессиональных уз, воспринимавшихся в духе западного просвещения и либерализма как помеха ускоренному экономическому развитию, опиравшемуся на программу внедрения либерально-буржуазных ценностей или экономическую активность государства (этатизм). Ситуацию усложнило то, что модель национального государства пытались внедрить в странах, где слом традиционного общества произошел практически одномоментно в результате вмешательства внешних сил. Националисты в этих странах выступали в качестве носителей абсолютно новой идентичности, отвергая исламскую основу интеграции социально-экономического пространства БСВ, доминировавшую несколько столетий, когда "… все без исключения пути эволюции ближневосточного общества, подобно лучам, проходящим через линзу, преломлялись через ислам, и, даже когда это общество сопротивлялось соблазнам и давлению ислама, оно испытывало его (ислама) глубокое влияние или даже радикально менялось, включаясь в совершенно новую историческую систему отношений…". (14) При этом нигде, кроме Турции, где патриотическое движение было ответом на попытку внешних сил расчленить страну, реформаторы не опирались на массовое протестное движение. В тот момент исламская идентичность казалась им однозначно устаревшей, поскольку именно с ней арабский и персидский миры проиграли в столкновении с Европой. Националисты из стран БСВ свое понимание Запада получили от европейцев, которые, в свою очередь, делали упор на эффекте политических революций, очистивших их общества от сословных и религиозных предрассудков, что, как считалось, развязало личную инициативу, которая принесла богатство и процветание Европе. Исходя из европейского опыта, власти отрицали целесообразность учета интересов не только этнических и конфессиональных меньшинств, но они рьяно сокрушали ценности доминирующих в их странах этнических групп, отодвигая и маргинализируя не только ислам, но и общинное устройство даже доминирующего этноса, который они стремились превратить в нацию. Родоплеменные общины они считали пережитком чуть ли не первобытного общества. Но в этом заключался парадокс: во-первых, были неправильно поняты источники экономической и военной мощи Запада, а, во-вторых, путь создания самостоятельных мононациональных государств, считавшийся наиболее простым с точки зрения становления национального капитализма, оказался не приложим к восточным обществам с их глубокой социально-территориальной разделенностью.
Национализм был выражением новой воображаемой групповой идентичности, он являлся идеологическим конструктом, заимствованным извне, и в этом смысле это была абсолютно частная, т.е. партикуляристская идентичность, которую националисты, став политической властью, ради возрождения своих стран стали навязывать обществу как общую, всеохватывающую идентичность. При этом они, пользуясь своим господствующим положением в обществе, делали это крайне прямолинейно, злоупотребляя силовыми методами: они не снимали межэтнические и межконфессиональные противоречия и не разрешали споры по поводу путей развития своих стран, а подавляли их. Негативные последствия этих незавершенных революционных процессов, хотя и с запозданием, но наступали почти во всех странах: зашла в тупик "кемалистская Турция", была отторгнута казавшаяся успешной "Белая революция" в Иране, а баасистские революции-перевороты в Сирии и Ираке закончились грандиозными провалом, растянувшимся на двадцать лет (2003–2025).
Механизм становления и крушения политических режимов в странах БСВ был однотипным. После завоевания власти и выдвижения своих политических интересов и ценностей в качестве общегосударственных новая элита, начинавшая свое становление обычно как партия или как неформальная группа единомышленников, часто с весьма неопределенными взглядами, в целом предусматривавшими экономический подъем страны как главный критерий успеха, обретя власть, превращается в диктатуру (ПГГ), членство в институтах которой становится обязательным для участия в управлении государством, а ее поддержка становится безоговорочной для всех членов общества, кто не хочет оказаться в числе отторгнутых ею маргиналов. Это, как признает А. Турен, стало нормой: "И нет ничего парадоксального в утверждении, что революционный дух всегда ассоциируется с наличием управляющей группы, будь её члены интеллектуалами или верхушкой буржуазии, которая ассоциирует себя с наукой и Просвещением". (15) Но в результате этой метаморфозы задача создания в стране идентичности, соответствующей ее условиям, а не заимствованным идеологическим догмам, оказывается принципиально невыполнимой. Это связано с тем, что политическое развитие этих стран, как правило, принимает авторитарные формы, подавляющие в обществе диалог и отрицающие права этноконфессиональных меньшинств. Хотя в начальный период эти страны демонстрируют экономические успехи, относительно успешный период их развития ограничен временем существования первичной ПГГ. По мере ее ослабления, а, тем более, в случае распада, новая воображаемая идентичность, какое-то время казавшая доминирующей, общенациональной, сталкивается с вызовами со стороны этнических, конфессиональных и идеологических общностей, которые сохраняются или даже воспроизводятся в обществе.
Сирия, Ирак, Иран, Афганистан за прошедшее столетие не решили задачи преобразования своих стран из-за того, что их политические силы были зациклены на внедрении заимствованных универсальных ценностей с позиции силы, не имея возможностей из-за острых социальных расколов и сопровождающих их конфликтов, которые они только усиливали, пытаясь вырвать индивидуума из-под власти традиционных – родоплеменных и религиозных – структур, поскольку были догматически уверены, что без этого невозможно становление общества современного типа и формирование соответствующей его состоянию общегосударственной, общегражданской политической идентичности. А необходимо наоборот, не игнорировать их причины, прояснять их, поскольку "теоретическая фундированность и согласованность представлений о ключевых факторах и типах социальных размежеваний и политических противостояний становится условием sine qua non существования национально-территориальных сообществ, разделенных по разным основаниям – от ценностного выбора и культурных предпочтений до включенности в форматы общения цифрового общества и цифровой экономики, либо же исключенности из них". (16)
Даже в таких странах, как Ирак, где потенциально были необходимые материальные ресурсы, не удалось создать современное общество и современную экономику из-за нарастающей на базе этноконфесиональных противоречий дезинтеграции общества. При отсутствии общепризнанной идентичности отдельный человек оказывался в ситуации выбора – следовать требованиям государства или своей общины (СТО) – и чаще выбирал последнее, поскольку его индивидуально-семейное выживание зависело от его общины, а не от государства. В ситуации хаоса государство оказывалось неспособным взять на себя все те функции, что ранее выполняли СТО, соответственно, его претензии задавать тон в стране, определяя лояльность индивида, не признавались. В Ираке после свержения режима С. Хусейна силами международной коалиции во главе с США были проведены реформы, имитирующие демократизацию страны: формально было разрешено создание политических партий, а процедура выборов стала прозрачной и была защищена от фальсификаций. Но при этом социально-территориальные общности не получили возможности представлять и отстаивать свои интересы, утратив даже ту толику власти на местах, которую они имели при С. Хусейне. Естественно, что новая политическая система, закрепившая олигархическое правление нескольких ведущих партий, не получила поддержки со стороны родоплеменных и религиозных общин. Эти шаги ускорили размежевание между разнородными СТО и усилили их противостояние центральной власти, сделав существовавшее при авторитарном режиме подавленное этноконфессиональное размежевание открытым и более жестким. Оно стало политическим фактором, который начал непосредственно определять природу власти и работать на разрыв страны. Только колоссальное внешнее давление Ирана, Турции, арабских стран и США удержало Ирак от распада.
После неудачи попыток внедрить западные модели светского развития в обществах БСВ снова стали набирать силу политики, делавшие ставку на возвращение исламу ведущей роли как общей идентичности нынешних сообществ (Иран, Турция, Афганистан, Ирак, Сирия). Это связано с парадоксальной ситуацией: обладая колоссальным потенциалом экономического развития, эти страны уже более ста лет не могут найти нужную, т.е. способную прижиться, форму политической организации своих обществ, сильно страдая от внутренних этноконфессиональных конфликтов. Внутренняя борьба в этих странах провоцировала внешнее вмешательство в расчете на их слабость. Попытки вмешательства извне срывались, потому что, несмотря на внутреннюю конфликтность в этих обществах, базовые структуры их обществ – социально-территориальные общности – обладали устойчивой идентичностью и высокой внутренней солидарностью, которая позволяла им даже в тех случаях, когда центральная власть теряла силу и способность защитить страну, действовать по собственной инициативе, чтобы отразить внешнее вмешательство, а, тем более, оккупацию своей территории (Афганистан, Ирак).
Проблема смены идентичности в процессе исторического развития
Историческое развитие этноса как группы людей по своей численности и организации, способной к устойчивому воспроизводству (выживанию) в контролируемой ею ландшафтно-экологической (природно-хозяйственной) нише, связано с переходом от сравнительно небольших групп населения с внутренне цельной, относительно гомогенной и относительно простой структурой, занимающих небольшие по объему ландшафтные ниши, а, следовательно, и ограниченных в масштабах и уровне своего развития, к крупным межэтническим объединениям, охватывающим все более значительные территории, что потенциально дает им возможность достичь более высокого уровня социально-экономического и технологического развития. Расширение освоенной территории за пределы проживания одной этнической общности и удержание власти на увеличившейся территории не могут быть достигнуты только военными средствами: в конечном итоге, нужно наладить конструктивное взаимодействие победителей с присоединенными этническими группами, которое бы примирило обе стороны с общими нормами жизни (ценностями) в новом сообществе, т.е. должен произойти пусть и не равный, но симбиоз. Успех зависит от способности политических сил, объединяющих разные этнические общности под своей властью, предложить такую систему ценностей, которая бы примирила между собой общины с различными базовыми идентичностями. Обычно мощное устойчивое территориальное расширение это связано с новой идеологией, или с религией, как это произошло уже в первый век существования ислама, благодаря которому "мусульманская община, сплотившаяся вокруг своего Пророка и его бога, подчиняющаяся единоличному решению и потому способная на безграничную экспансию, воплощала принцип социального и политического порядка, который мог или разрушить племенную организацию до основания, или же поглотить ее. В любом случае присутствие мусульман могло обеспечить стабилизирующее воздействие на арабские племена с их тщетными поисками согласия". (17) Это возможно только при "усложнении общества", если оно способно выработать "ультрасоциальные" институты, разрешающие сложные проблемы взаимодействия в расширяющейся державе. (18) Главным вызовом является необходимость примирить в рамках новой системы ценностей (новой идентичности) попавшие в ее подданство социально-территориальные общности, придав новым порядкам устойчивость на значительный период. Смена акторов во главе этих империй (макрорегиональных государственно-политических систем) на БСВ – греки, македонцы, римляне, византийцы, мусульманские халифы, османы – происходила из-за того, что предыдущая форма интеграции этого пространства ослабевала и терпела крах как по политическим причинам, так и из-за природных или социально-экономических изменений или же из-за внешнего давления, в любом случае причина была в утрате или ослаблении возможности поддержания достаточно устойчивых и эффективных институтов взаимодействия (способа общения), как внутреннего, так и межгосударственного на пространстве, включавшем множество СТО. Об этой связке пишет Г. Грюнебаум: "Источником сплочения империи были уже не "арабская нация”, не арабы на руководящих постах, а династия, обеспечивавшая исламское единство и в конечном счете целостность самого ислама. Она надежно выполняла эти функции до тех пор, пока свободное существование религиозной общины казалось связанным с легитимной государственной властью, олицетворенной в Халифате". (19)
Главным отличием этих сменяющих друг друга государственных структур является не преимущества в организации их армий или в их вооружениях, которые, безусловно, важны, а то, чем отличаются их системы ценностей, их способ общения, (20) на основе которого каждый раз по-новому организуется то или иное сообщество в столь обширных границах. Главным фактором оказывается способность центральной власти (или ее неспособность, как у македонян) по-новому организовать пространство, т.е. различия в адекватности в данный период предлагаемого способа общения. Более сильная армия позволяет разгромить другое государство, но не позволяет организовать и удержать оказавшееся в подчинении пространство. Его главная черта – способность примирить разнородные общности.
Различия в макрорегиональной организации Европы и БСВ
В Европе многократно предпринимались попытки создать интегрированную империю. Однако развитие европейского региона пошло по другому пути: здесь на региональном уровне, а затем и в странах закрепился военно-конкурентный, т.е. опиравшийся на военную силу, способ общения. Из-за наличия в Европе в этот период множества существенно отличающихся друг от друга в культурном и военном отношении, достаточно зрелых этносов, а также из-за ее геофизической композиции, разделенного Альпами и Пиренеями на "национальные квартиры" континента, оказалась местом существования множества преимущественно моноэтнических государств. Главным способом общения между ними была война. Это привело к формированию на европейском континенте регионального негативно интегрированного сообщества, внутри которого сложились отношения противостояния и острой взаимной военно-экономической конкуренции. Это препятствовало интеграции этих субъектов в единое государство, даже если они оказывались под властью одной династии. В этих процессах активно участвовали Римская католическая церковь и Священная Римская империя, пытаясь – каждая на своей основе – создать континентальную империю, но неудачно, в том числе и из-за взаимной конкуренции. Вестфальский конгресс (1648) подвел черту под циклом междоусобных войн за объединение Европы, признав государственный суверенитет, а, соответственно, и идентичность, т.е. уникальное отличие друг от друга, больших и малых европейских государств, нормой. Нельзя сказать, что после не было попыток создания империй, но эту задачу не удалось выполнить ни в ходе наполеоновских, ни в ходе первой и второй мировых войн. Особо стоит текущий интеграционный проект – Европейский союз, но он пока не завершен. Такого рода конкурентные отношения в регионе вели к разделению даже сравнительно устойчивых сообществ, если внутри них возникали или усиливались этноконфессиональные расхождения.
В Европе царила вражда всех против всех, поэтому приоритет отдавался совершенствованию вооружений и способов ведения войны, необходимых для сдерживания друг друга. Военная сила, возникшая для защиты от внешнего противника, стала использоваться для подавления протестов внутри стран. Это ослабляло интерес к поддержанию социального согласия и стало основой формирования в Европе абсолютистских государств, которые силой добились внутреннего культурно-конфессионального однообразия, а также упрощения общественных связей, сведя их к отношению монарх – подданный.
Такой вариант развития европейской континентальной структуры государств стал результатом длительного цивилизационного цикла ее развития. Он начался с прибытием рыцарей-переселенцев в Европу, большая часть которой была вновь осваиваемой территорией. С благословения папы Римского они захватывали земли в новых странах, подчиняя себе жившее там веками население, чужое для них как генетически, так и культурно. Наиболее яркий пример – нормандское завоевание Англии, в конечном итоге, приведшее к созданию государства-нации. Аналогичным образом шло государственное строительство в Дании, Голландии и в странах Скандинавии. В этих странах крестоносцы образовали господствующий слой. Их отличала конкурентно-индивидуалистическая (рыцарская, агональная по духу) культура, определявшая идентичность этого слоя и его принципиальное отличие от автохтонного (сельского) населения этих стран. Отсюда глубокая генетическая противоположность культур знати ("благородных") и черни в западноевропейских обществах. Жестокое подчинение завоеванных народов не привело к новому общественному синтезу в этих странах, а антагонистическое единство господствующих групп скреплялось только необходимостью противостоять другим аналогичным "ватагам", а главное – сопротивлению местного населения, которое вылилось в череду крестьянских войн, возникавших в силу солидарности общин автохтонного населения, однако, потерпевших в Западной Европе поражение. Дух и отношения внутри этого пришлого слоя передает Й. Хёйзинга: ""Преданность государю носила по-детски импульсивный характер и выражалась в непосредственном чувстве верности и общности. Она представляла собой расширение древнего, стойкого представления о связи истцов с соприсяжниками, вассалов с их господами и воспламеняла сердца в периоды вражды или во время битвы, порождая страсть, заставлявшую забывать обо всем на свете. Это было чувство принадлежности к той или иной группировке, чувство государственности здесь отсутствовало (курсив мой. – В.М.)… По мере того как мощь государства крепнет и ширится, семейные раздоры резко поляризуются по отношению к феодальной власти, что и ведет к образованию партий, которые, однако, видят основания для своего разграничения исключительно в солидарности и корпоративной чести". (21) Похожая психологическая атмосфера царила в Египте, Сирии и Ираке во время первых верхушечных революций-переворотов, осуществленных офицерами в Египте (1952), Сирии (1963), Ираке (1958), когда только закладывались основы не столько государственно, сколько персонально авторитарных политических систем этих стран.
В качестве огосударствленной культуры западного общества рыцарско-индивидуалистический тип идентичности глубоко закрепился в европейских странах в период средневекового ренессанса. Более того, Й. Хёйзинга подчеркивает, что "дух Ренессанса, стремление следовать прекрасным образцам античных времен непосредственно коренятся в рыцарском идеале". (22) В ходе Ренессанса присущие рыцарской культуре господствующего слоя социально-психологические черты были закреплены широкой апелляцией к греко-римской (агональной, конкурентной) культуре как непреходящему цивилизационному источнику европейской культуры. (23) Свое полное развитие эта культура получила в эпоху абсолютистских монархий, когда "прямое отношение подданного и суверена пришло на смену запутанным партикуляристским солидарностям феодального общества. Однако "подданный” как образец социетального членства был, в свою очередь, заменен на гражданина". (24)
Западноевропейские страны, достигнув в ходе освоения континента и после многих десятилетий войн баланса сил, закрепленного Вестфальским мирным договором (1648), более или менее освободились от прямого внешнего вмешательства, а их правители получили стимулы и возможности устранить внутренние социально-религиозные перегородки в своих владениях. Идентичность европейских государств-наций в Европе оказалась обращенной в сторону межгосударственных отношений: "нация возникает в результате политического структурирования миросистемы", (25) а в своем внутреннем развитии европейские общества, движимые стремлением к максимальной мобилизации ресурсов, прошли через длительный процесс преодоления социально-политических и религиозных уз, которые обособляли группы населения, препятствуя распадению внутренних общностей на индивидуумов. Это привело к формированию внутри них универсальной (общегосударственной и единственной) идентичности и превратило их в государства-нации, для чего потребовались внутренние перемены революционного плана – промышленная, демократическая революции и революция в образовании. Потребовалось значительное время, чтобы западные общества приобрели относительно гомогенный характер, окончательно освободившись от сословных и религиозных ограничений, а количественное и качественное воспроизводство населения стало подспудно определяться потребностями современной системы разделения труда и зависеть от культуры репродуктивного поведения нуклеарных семей, а не от родоплеменных установок и традиций. Эти процессы открыли пути к современным формам политической мобилизации населения по группам интересов (добровольным ассоциациям) и изменили характер конкуренции в правящей элите, превратив ее из военно-феодальной в финансово-олигархическую. Западноевропейские общества не обладают той внутренней солидарностью, которая отличала восточные общества. Это связано с тем, что они в силу исторических причин развивались при доминирующей роли переселенческих элементов, перестроивших под себя сверху захваченные страны, ориентируясь исключительно на свои интересы и паразитируя на их людских и природных ресурсах, в том числе и истребляя их, чтобы обеспечить управляемость на контролируемых территориях. В современных обществах стран БСВ родоплеменные и религиозные отношения до сих пор остаются основой, на которой столетиями строится социально-экономическая жизнь общества. Они прямо признаны в относительно успешных арабских монархиях, а попытка подавить их в республиках, возникших путем революций-переворотов, привела к тому, что большинство из них до сих пор пребывает в раздорах (Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан, Пакистан и др.). Безусловно, сохранение родоплеменных отношений и относительно бесконфликтное существование монархий как форм правления в значительной степени обусловлено неотрадиционными (рентными) доходами от экспорта нефти, которые они начали получать в 1960–1970-ые годы в результате их включения в современную мировую систему хозяйства, что позволило этим сообществам решить свои острые социально-экономические вопросы и сохранить на какую-то перспективу традиционный для них способ общения.
Особенностью макрорегионов Ближнего и Среднего Востока и ныне российской Евразии до нового времени была их организация в виде интегрированных континентальных империй, которым во внутреннем плане была не свойственна сугубая авторитарность. За нее принимают строгость наказаний в отношении лиц, нарушивших законы или монархический порядок правления. Наоборот, их общества были глубоко разделенными, поскольку в них традиционно с разной степенью автономии сосуществовали социально-территориальные общности (родоплеменные, религиозные), которые объединяли в обязательные ассоциации все население в сферах своей юрисдикции. Это внутреннее разнообразие было неотъемлемо чертой их политической организации: "Внутри огромного имперского пространства неизбежно многообразие, чем бы оно ни выражалось: национальными, региональными, историческими или иными особенностями. Можно предположить, что цепочки коммуникаций, общий горизонт которых бесконечно далекая (пусть даже и географически близкая) граница империи, столь же мало связаны между собой, как и любые действия, если общая норма в не специфицированном виде рассредоточивается на большие массы". (26) Причем это не было специфической чертой азиатских империй, а было присуще всем образованиям, в силу особенностей своей ландшафтно-хозяйственной и геополитической ниши делавшим ставку на интеграцию больших пространств. Эту черту отмечает А.Б. Панченко: "Превратившись в полноценные империи, державы Османов, Габсбургов и Рюриковичей пошли по схожему пути – отказ от немедленной полной интеграции новоприобретенных территорий и включение их в состав на особом положении…". (27) Однако важно подчеркнуть, что власти специально не разделяли и не обосабливались разные СТО в своих империях, а по опыту понимали, что невозможно столь различные по природе части объединить в некоторое гомогенное единство. Как раз попытки "упорядочить" государственное устройство, ориентируясь на современный им западный опыт, в период реформ в Османской империи (Танзимат), который длился с 1839 по 1876 год, и в ходе реформ Александра II в 1860-е и 1870-е годы в России, стали причиной дестабилизации ситуации в этих странах. Формула "разделяй и властвуй" характеризует способ развала континентальных империй, который использовали европейские государства-нации.
Европа по этноконфессиональным составу населения была поделена на государства, как самодостаточные (Франция, Англия, Испания), так и иногда предельно маленькие, образовывавшие галактики (миры) микрогосударств. Таким образованием была Священная Римская империя германской нации. Только на этапе буржуазной модернизации, для проведения которой потребовался весь доступный внутренний рынок, эти государства были сплочены в национальные, а по своей структуре имперские, моноцентрические образования – Италию и Германию. Но внутри этих империй все еще сохранялись автономии (Бавария, Вюртемберг, Баден и Саксония), а субъекты империи обладали достаточно высокой степенью самостоятельности. После поражения в Первой мировой войне и серьезного национального унижения германской нации структурные недостатки будут крайне болезненно изживаться фашистами в Германии. В средневековой Европе мы наблюдаем региональное сообщество агональных по духу своей идентичности государства, стремящихся к мононациональному составу или к доминированию одной государствообразующей нации. Восток тысячелетиями существовал в виде огромных континентальных империй (Византийская империя, халифаты, Османская империя, сменяющие друг друга китайские империи) в макрорегионах, обособленных друг от другая полосами лимитрофных образований. До начала столкновений с капиталистическим Западом они не были конкурентами друг другу, поэтому в военном отношении эти страны деградировали, особенно располагавшиеся в восточной части Азии. (28) Внутри них обособленно сосуществовало множество замиренных, не боровшихся между собой социально-территориальных общин, живших своим привычным строем. Их постепенно нараставшая интеграция между собой не требовала устранения различий и гомогенизации всего общества, наоборот, способствовала их сохранению, поскольку строилась на естественных аграрно-климатических, экономгеографических и этнокультурных особенностях регионов и общин. Внутри континентальные империи были довольно рыхлыми, квазифедеративными структурами, где надэтнический (фактически надстроечный) уровень функционировал практически самостоятельно от базового. Это проявлялось, в частности, в лествичной системе наследования, не создававшей прочной связи правителя с тем или иным регионом (провинцией, вилайетом), и даже для своего расширенного воспроизводства они, в частности Османская империя, в основном использовали ресурсы вновь присоединяемых территорий.
Запад и Восток по-разному понимают идентичность: на Востоке национальность еще не развита, она представляет собой не столько внутреннюю солидарность этнической или конфессиональной группы, сколько способ общения, благодаря которому поддерживается в интегрированном состоянии обширная территория, что обеспечивает господствующему слою высокий уровень жизни, а базовому уровню – СТО – традиционный уклад жизни, что в целом обеспечивает воспроизводство данного суперэтноса (население интегрированных империй – это по своей структуре фактически суперэтносы) с соответствующими предписанными (наследственными) социальными ролями всех его членов. Если в западной культуре понятие национальной идентичности объединяет всех граждан государства по формальному принципу принадлежности к государству, то реально действующая, наряду со скрепляющей официальной, идентичность на Востоке – клановая, родоплеменная. Это обязательная персональная включенность человека в свою группу, в которой его социализация – это часть процесса ее собственного воспроизводства. Если идентичность западного общества можно переформатировать, нанеся военное поражение государству или изменив его характер изнутри путем революции, то базовые идентичности восточных обществ таким образом не изменить: какие бы метаморфозы ни претерпевало наверху государственное устройство, базовые (низовые) социально-территориальные общности в своей массе остаются неизменными. В восточном обществе власть, связанная с обеспечением повседневной жизни, функционирует на местном уровне, а надстройка – в стабильные периоды живет своей жизнью, практически не вмешиваясь в то, что происходит внизу общества. Так, в Афганистане "неформальные лидеры (влиятельные лица, лидеры племен и этнических групп, полевые командиры и др.), обладающие политическими (связь с влиятельными политиками, наличие внешних доноров, высокий социальный статус в определенной социальной группе) и материальными ресурсами (занятие контрабандой, торговля наркотиками, зарубежные контракты и др.), фактически являются хозяевами положения в регионах и конкурируют с официальной властью за влияние на местном уровне". (29). Эта страна за XIX – XXI вв. пережила много попыток преобразования, включая строительство и нового государства, и новой нации, но относительной стабильности в ней удавалось достичь только в том случае, если верховная власть страны не вмешивалась, а, тем более, не меняла порядок функционирования общества на местном уровне.
Для Европы венцом социально-политического развития общества считается государство-нация, которое излишне обуржуазивается и представляется как необходимый шаг на пути к капитализму, тогда как оно всего лишь промежуточный результат развития, который страны, стремящиеся к созданию современного (капиталистического по своей организационно-технологической основе) общества вынуждены совершать, создавая системы интеграционного типа: колониальные империи (Голландия, Великобритания), а, если такой возможности нет, то континентальные империи в ранее не интегрированных макрорегионах (кайзеровская Германия). Из маленькой Голландии, еще только приобретающий черты способа производства, капитализм мигрировал в Англию, экономгеографический потенциал которой для него уже был не достаточен, как для них обоих потенциал европейского макрорегиона, несмотря на начавшуюся субрегионализацию континента, в рамках которой одни страны специализировались на производстве промышленных изделий, а другие – на выращивании для экспорта сельскохозяйственных культур (вызвав тем самым т.н. "второе издание крепостничества"). В результате обе морские страны обратились к колониально-торговой экспансии и превратились в сетевые колониальные империи. Страны Западной Европы без расширения доступного им экономического пространства, главным образом, за счет богатых и многонаселенный Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии, остановились бы на начальных ступенях своего протокапиталистического, а на деле торгово-эмпорийного развития, в лучшем случае повторив достижения североитальянских городов. Получается, что континентальные империи, представлявшие собой "межрегиональные системы социальной связи" (Л.И. Рейснер), были не тупиковым, застойным вариантом развития, а насущно необходимой фазой становления глобальной мирохозяйственной системы, этапом накопления колоссальной материальной массы, масштабам которой мы до сих пор поражаемся на Востоке, без которого не было бы последующего технологического и социального прогресса мира (будущего формационного рывка), не было бы стимула (рынка сбыта) и материальной возможности (полученной от торговли прибыли), чтобы создать массовое машинное производство продукции, – голландцы и англичане буквально поднялись, как на дрожжах, на богатстве материальной жизни, созданной и накопленной интегрированными империями. Л.И. Рейснер резюмирует аргументы, приведенные в исследовании Г. Шёберга "Доиндустриальный город в прошлом и настоящем", который высоко оценивает вклад крупномасштабных территориальных образований Востока в развитие европейского капитализма: "во-первых, когда общество расширяет свои политические границы, растет и его экономическая база (ресурсы в виде аграрного прибавочного продукта, источников сырья, рабочей силы и т.д.); во-вторых, стабильная политическая система есть первейшее условие процветания хозяйства и поддержания торговых коммуникаций внутри страны и вне ее". (30) И так устроена любая форма жизни, начиная с семени растения, которое не прорастет без запаса питательных веществ в его эндосперме, и социальная жизнь – не исключение.
Континентальная Европа, в отличие от приморских Голландии и Англии, также, как и Восток, тяготела к созданию континентальной интегрированной империи. Длительное время эту тягу подпитывала османская угроза, померкшая после поражения турок в морском сражении при Лепанто (1571 г.) и окончательно отступившая после их поражения под Веной (1683 г.). Эту тенденцию европейского развития недооценивают, поскольку попытки создать интегрированное панъевропейское государство постоянно проваливались. Вначале это было из-за междоусобиц, а затем в основном из-за позиций великих государств Европы нового времени – Франции, Великобритании и России, которые блокировали попытки создать конкурентные им мощные имперские образования. Безусловно, проблемой, мешавшей интеграции Европы, было и то, что из-за раскола христианства она была разделена и не смогла создать имперские структуры, вмещающие в себя сложившееся разнообразие обществ на приемлемых для них условиях, как это произошло с много менее суверенными сообществами (идентичностями) в Османской империи, поскольку те до того уже много столетий входили в сменявшие друг друга империи и халифаты. Последние благодаря исламу, ставшему основой общественной солидарности их сообществ, подготовили почву для трансформации этого пространства в Османскую и Персидскую империи, а на востоке после климатической деградации Средней Азии обособился Китай.
Эти интегрированные империи принято рассматривать как пережиток истории, которому суждено исчезнуть. Одним из аргументов, показывающих врожденную слабость старых этнически пестрых империй и преимуществ нового унитарного строя македонской державы, считается поражение многоязычного войска царя Дария монолитной македонской фалангой. Однако македонский период в истории Ближнего Востока был мимолетным, а персидская история продолжается. Безусловно, македонская идентичность была яркой, и, разрушив многообразие идентичностей греческого мира, она подготовила почву для покорения ближневосточного пространства Римом. Длительное доминирование греков в регионе сменилось периодом римского (подлинно имперского, "царского") господства, который также был не слишком продолжительным по восточным меркам. Греческая идентичность сохранилась в Византийской империи, поликультурной в отличие от Рима, а потому продержавшейся много дольше. Затем пошла череда халифатов, как форм организации пространства, охвативших еще большее число племен и народов, правление которых на время прерывалось вторжениями более или менее однородных орд кочевников из Центральной Азии, которые, в конечном итоге, культурно трансформировались в правление исламских династий Османов и Сефевидов, поделивших между собой большую часть пространства БСВ.
Было бы неправильно воспринимать эти интегрированные континентальные империи негативно как застой, поскольку это была колоссальная работа по сплачиванию совокупности племен и народов в обширные государства. Часто новый шаг происходил на более сложной государственной основе или на новой религиозной основе. На Востоке благодаря особенностям ислама, который не предполагал установления всеохватывающей (универсальной) иерархии духовенства, он преуспел как способа общения, в рамках которого сохранялась автономия мусульманских общин и признавалось их равенство, также была сохранена автономия арабских, курдских и иных племен и субэтносов (народов). Аналогично на севере Евразии возникла преемница Византии, православная Московская Русь, превратившаяся в огромную континентальную империю, в которой нашли нишу многие племена и народы, став частями огромного сообщества народов. Имперская (царская) власть, считавшая себя наследницей Византии, потеснила церковь, но она не подавляла, а интегрировала традиционные социально-территориальные общности. Сейчас эти империи стали называть еще и государствами-цивилизациями, отражая их сложную и долговечную природу. (31) Относительный покой и порядок в континентальных империях, в конечном счете, были результатом согласия всех с общими ценностями, результатом лояльности к общей идентичности, не отрицавшей местных различий. Общая идентичность по сравнению родоплеменной идентичностью была не слишком детализированной и, скорее, поверхностной, чем глубокой. Эти империи гармонизировали макрорегиональное экономгеографическое пространство БСВ, но тем самым, невольно, не догадываясь о потенциале иного варианта устройства мира, практически останавливали свое развитие на воображаемом пике: общества входили в гомеостазис, о чем сейчас мечтают экологи. Но такая почти полная остановка в развитии случилась благодаря большей геополитической изоляции по сравнению с БСВ в Китае при династии Мин и в Японией при сёгунах Токугава, когда их правители по собственной воле положили конец внешней торговле и заморским авантюрам своих купцов, нарушавшим гармонию и слаженность внутренней жизни, гармонию их внутреннего способа общения.
В Европе, раздираемой войнами, такая приостановка в развитии была невозможна. Но даже на этом фоне превращение общинника в подданного, а затем в гражданина потребовало довольно длительной эпохи Просвещения и серии буржуазных революций, которым предшествовало подавление крестьянских войн, а в Англии – еще и процесс "первичного накопления", т.е. "раскрестьянивания". (32) Ничто подобное было невозможно в странах БСВ, а, тем более, в Китае, где именно из-за многочисленности крестьянства, несмотря гибель десятков миллионов жителей страны в периоды социальных катастроф, которыми становились восстания, крестьянство, в конечном итоге, побеждало. В Западной Европе, наоборот, путем, по сути, геноцида крестьянства национальные сообщества приобрели очищенные от религиозных и сословных ограничений общественные формы, превратившись в общества "универсальных индивидуумов", связанных между собой и с остальным миром исключительно частным интересом. При этом эти страны были вынуждены поддерживать в обществе солидарность в защите достаточно широкого спектра общегосударственных, национальных, интересов, связанных с обеспечением условий воспроизводства собственной нации, поскольку вне нации граждане не могут обеспечить себе уровень жизни, заданный, с одной стороны, общей численностью населения, а, с другой, культурой материального и духовного потребления. Оба фактора обусловливают необходимость постоянного углубления общественного разделения труда, что невозможно без расширения рынков и агрессивного (конкурентного) выхода за пределы собственных границ. Это – фактор формирования национальной солидарности, отражающей возросшую взаимозависимость членов общества. Она становится основой военно-политической и экономической конкуренции на мировой арене. Несмотря на то, что в странах Востока и Европы был один и тот же способ производства, связанный с доминированием сельскохозяйственного производства, межгосударственные и внутригосударственные способы общения из-за существенных отличий в геофизической, агроклиматической, этноконфессиональной, геополитической структурах этих макрорегионов были различными, что определило специфику развития их обществ: формирование государств-наций в Европе и интегрированных континентальных империй (государств-цивилизаций) на Востоке.
Конфликт заимствованной идентичности и базовых идентичностей традиционных обществ
Европейскую модель идентичности, которой был приписан универсальный характер, якобы не достигнутый в странах Востока из-за присущей им отсталости, страны, в XX веке вновь образованные на развалинах Османской империи и отказавшиеся рассматривать себя в качестве ее наследников или преемников, попытались внедрить у себя – в качестве универсальной – общегосударственную идентичность. Они были уверены, что это сулит им скорое повторение европейского успеха в социально-экономическом и, особенно, в военном развитии.
До столкновения с европейской агрессией в XVIII–XIX веках БСВ, где установился относительный баланс отношений между несколькими империями, был высокоразвитым и богатым районом традиционного мира, в том числе и благодаря наличию в его составе множества в целом достаточно мирно сосуществовавших друг с другом идентичностей (СТО), что придавало этим обществам дополнительные возможности адаптации к окружающей среде и способствовало преодолению ограничений, которые почти неизбежно ведут к застою в монокультурных обществах. По этому параметру их состояние сильно отличалось от нынешнего, когда они утратили былую культуру взаимодействия (общения) внутри своих сообществ и когда уже около ста лет разноликое множество идентичностей конфликтует между собой в большинстве стран БСВ. Это – причина хронической политической нестабильности в этих странах, которая замедляет или блокирует их развитие. Причина конфликтов в том, что почти все они все это время пытались внедрить у себя европейский тип буржуазно-индивидуалистической идентичности, пытаясь вписать его в каркас, сформированный по модели государства-нации с абстрактной (воображаемой) общегосударственной идентичностью пакистанцев, афганцев или индийцев, превратив своих граждан из пуштунов и индусов в универсальных индивидуумов, граждан политического государства с подавленной этничностью и религией на заднем плане. Безусловно, ничего подобного и близко бы не получилось у англичан или португальцев, но вообразившие себя выразителями общенациональных интересов интеллигентские элиты этих стран были уверены, что смогут имплементировать либерально-демократическую (буржуазную) или государственно-автократическую (социалистическую) модели модернизации в своих странах, что они и попытались сделать. Однако, чтобы совершить подобное преобразование общества, необходимо было провести политическую, экономическую и культурную революции по образцу стран-моделей, которые разрушили бы всю прежнюю культуру, в том числе и способ общения внутри страны, а у СТО были бы отняты все их основные социальные функции, которые они выполняют до сих пор. Даже не рассматривая отдаленные последствия шагов такого рода, видно, как уже на первом этапе попытка перечеркнуть отношения солидарности в родоплеменных и религиозных общинах вызвала конфликты, столкновения и восстания, но, в конечном итоге, не привела к внедрению в странах БСВ образа жизни (отношений), который предполагали утвердить, заимствуя воображаемые идентичности. В этих странах было сложно сменить даже общую (общегосударственную) идентичность, несмотря на то, что почти во всех странах она была дискредитирована в предшествовавший период, не говоря уже об отмене множества локальных, базовых идентичностей, за тысячелетия глубоко укоренившихся в традиционном укладе жизни этих стран. Но такого рода попытки были предприняты, потому что этого требовали идеологические догмы, согласно которым модернизация – это, прежде всего, уничтожение "старого порядка", поскольку "идея революции… заключается в борьбе против ancien régime, ведущейся во имя естественных законов прогресса нацией, которая освободила себя от традиционных форм власти". (33) Неслучайно, что во всех случаях преобразования периферийных обществ предусматривалось либо установление незамаскированной диктатуры, как это требовала социалистическая модель, либо навязывалась авторитарная система, лишь немного прикрытая демократической избирательной системой, которая была призвана легитимизировать революционную элиту, захватившую управление государством.
Естественно, что программы националистических преобразований вошли в конфликт с общим культурным кодом реформируемых стран, в которых как элиты, так и общества были глубоко расколоты. Однако если внутри элитарных слоев можно было найти компромисс или можно было подчинить их доминирующей группе, то бескомпромиссный конфликт с множеством СТО (родоплеменных структур и религиозных общин, имеющих собственную, хотя часто официально не закрепленную, территориальную юрисдикцию) было невозможно разрешить, а сами эти идентичности невозможно было разрушить даже насилием со стороны государства, близким к геноциду. В свое время их не разрушил даже набиравший силу первоначальный ислам, считавший вражду родоплеменных общин между собой "джахилийей": он ограничился ролью идеологической настройки над ними и стал ценностной основой идентичности сообществ, структурно состоящего из множества СТО. Ислам справился с задачей примирения разнородных племен, которые, сохраняя племенную структуру, стали воспринимать себя как этническую общность: "Порогом, отделяющим этап "джахилийи” (анархии, междоусобиц), …у арабов стало появление пророка Мухаммада в VII в. и принятие ислама. Период вражды арабских племен сменился историей арабов". А там, где революционеры-националисты следовали заимствованным извне и лишь частично адаптированным к условиям своих стран идеологическим представлениям (догмам) и силой продавливали программу построения государства-нации, они везде вышли за все сколько-либо приемлемые пределы применения насилия, так и не добившись своих целей. Это произошло в баасистских Ираке и Сирии, а кровавые события 1920–1930-х гг. в кемалистской Турции, связанные с безжалостным подавлением курдских восстаний, отозвались курдским повстанческим движением в 1984–2025 гг.
В настоящее время в ответ на чрезмерное насилие и в тоже время беспомощность властей в странах БСВ набирает силу еще одна воображаемая идентичность, претендующая на то, чтобы воссоздать образ жизни первых веков ислама в виде исламских халифатов и эмиратов. Однако и в ней зеркально копируется западный универсализм, когда всю политическую систему стремятся построить на одном общем для всех основании (принципе), будь он светским или религиозным и довести ее до такой тоталитарной политической упорядоченности, какой и близко не было при пророке Мухаммеде: "Отдельные племена и роды сохраняли полное внутреннее самоуправление и оставались под властью своих выборных старшин. Власть пророка простиралась только на дела, касавшиеся всей общины, и на споры между различными племенами: таким образом, община Мухаммеда первоначально была только союзом прежних родовых и племенных организаций". (35) Похожие попытки имели место и в XIX–XX вв., но они носили локальный характер и не удались, однако сейчас в силу того, что революционная интеллигенция, зараженная западным универсализмом, получила в развивающихся странах доступ к СМИ, ей удалось катастрофическое развитие событий, имевшее место в некоторых странах БСВ (Сирия, Ирак, Афганистан), представить в текстах и видео- и кинодокументах, как модель воображаемого сообщества, придав ей впечатляющую наглядность и сделав ее, тем самым, ""модульной”, пригодной к переносу (в разной степени сознательному) на огромное множество социальных территорий". (36) Нечто подобное в свое время произошло с Французской и последующими революциями, которые потрясли мир именно тем, что показали, что такое развитие событий возможно. В результате "благодаря печатному капитализму французский опыт не просто оказался неискореним из человеческой памяти; он стал таким, что на нем можно было учиться". (37) К счастью, нынешние радикальные модели общественного строительства не обладают той же притягательной силой, как воплощенные в жизнь и, что крайне важно, продемонстрировавшие в определенные периоды времени и в серьезных испытаниях свою поразительную эффективность буржуазно-либеральная и этатистская модели государства-нации (идентичности). Ни та, ни другая не предполагает политического либерализма на переходном этапе, но ни одну, ни другую не удалось внедрить в странах БСВ.
Наличие в обществах БСВ множества СТО порождает проблему необходимости их примирения между собой и адекватного включения этих структур в политические системы этих стран, т.е. позитивного решения. Сохранение этого множества СТО актуально не только потому, что их невозможно уничтожить, но и потому что в странах БСВ они по-прежнему являются базовыми структурами общества, какими они были в континентальных империях, когда в рамках существовавшего там способа общения, опиравшемся на ислам (шариат), их родоплеменная верхушка включалась в состав господствующего сословия на соответствующем масштабу каждого племени ролях. Не слишком изощренные инструменты, но они работали. Эти инструменты веками были адекватным способом общения в этом макрорегионе. Они соответствовали своему времени и своему срезу культуры. Сейчас представители СТО также могут быть при небольшой модификации избирательного законодательства представлены в политической системе стран через процедуры демократических выборов, учитывающих мнение территориальных общин за счет развитой сети избирательных округов. Здесь главное – сохранить социально-территориальную солидарность. Она потребовалась иракцам в 2019–2021 годах, когда только в результате мощных уличных протестов, сопровождавшихся немалыми жертвами, они смогли добиться расширения своих избирательных прав, но эти выступления были бы невозможны без родоплеменной и клановой солидарности. Сохранение социально-территориальной солидарности, ее закрепление в конституции и законах, а главное, сохранение общинами способности коллективно выступать в защиту своих интересов, – это залог сохранения суверенитета народа как источника власти относительно государства, особенно центральной власти, "слуг народа", которые постоянно стремятся выйти за рамки своих функционально необходимых полномочий. В этом и состоит смысл многовекового "антицарского племенного этоса арабов", который в этом макрорегионе "с самых ранних этапов исламской истории препятствовал формированию иерархизированных систем управления автократического типа". (38) Эту способность к солидарному действию, в частности сопротивлению чрезмерному давлению центральной власти, СТО многократно выполняли в прошлом (восстание в Иракском Курдистане, 1961– 975 гг.). Эту же задачу СТО выполняют и сейчас. В Ираке в 2014–2017 гг. сопротивление родоплеменных и религиозных общин сыграло спасительную роль, обеспечив мобилизацию народа на защиту общества и страны снизу от радикально-террористического исламизма – еще одной из воображаемых идентичностей, которая является реакционным проявлением социального отчаяния. Отсюда и причина сопротивления авторитарной политической верхушки (ПГГ): устойчивое присутствие представителей родоплеменных и религиозных общин, по базовой идентичности фактически народа, в представительных и исполнительных органах власти постепенно, но неотвратимо изменит характер политической власти в стране, придаст ей народный характер.
Общественная природа стран БСВ, характеризующаяся сохранением внутренней разделенности обществ, требует ее учета и создания механизмов включения представителей базовых общин в политическую систему этих стран, а не их отрицания, а, тем более, не допустимо их подавление. Это позволит примирить СТО между собой и всех их вместе с общегосударственной идентичностью, устранив вызванную хаосом политической борьбы конкуренцию, и гармонизировать их интересы с интересами всего общества, в том числе и городского населения, уже включенного в новую для него глобальную геоэкономическую и геополитическую среды. В этом случае ответственность представителей СТО в представительных органах власти различных уровней, среди которых именно местный уровень должен быть самым значимым, перед своими коллективами будет гарантией демократии в буквальном смысле этого слова, т.е. того, что они будут отстаивать солидарные интересы своей общины, а не оппортунистически голосовать за предложения, идущие сверху. Пути к достижению общих целей далеко не очевидны, поэтому требуется широкое представительство народа, чтобы находить необходимые решения, а, главное, делать их приемлемыми для народных масс. В современном обществе гармонизация отношений с СТО достигается, если государство берет на себя часть их традиционных социальных функций. Однако СТО, будучи самостоятельными единицами развития, стремятся сохранить себя и остаться основой сплоченности территориальных общин. Они как были, так и остаются защитой от чрезмерного вмешательства верховной власти в местные дела и являются опорой политических сил, которые добиваются учета коллективного мнения местных сообществ, а также они являются незаменимым инструментом мобилизации населения, чего власть особенно опасается, поскольку представители СТО в законодательной власти способны придать ей народный характер, что ограничивает возможности ПГГ.
Заключение
Таким образом, этноконфессиональные противоречия проявляются особенно остро, когда разрушение крупных государственных образований происходит в инициативном порядке извне, как это произошло с разделом Османской империи после Первой мировой войны: ее внутренняя организация обеспечивала относительный порядок на этой территории почти пять веков, но это оказалось не под силу Великобритании и Франции, получившим мандаты на управление частью ее территорий. Страны БСВ, практически все испытавшие мощное внешнее давление, до сих пор находятся в переходном, неустойчивом состоянии, которое в любой момент может кардинально измениться в сторону ухудшения, поскольку в этих обществах из-за попыток внедрить западные модели общественно-политической организации, было нарушено взаимодействие между властью и социально-территориальными общностями.
Попытки стран БСВ догнать западные страны сопровождаясь успехами и срывами, в целом разрушили единство общества в этих странах, обесценили их прежние общегосударственные идентичности, что привело к их социально-политической архаизации, поскольку произошло усиление роли базовых родоплеменных и религиозных общин, опирающихся на солидарность своих членов. Проблемой для этих обществ, оказавшихся в состоянии затянувшегося перехода, является то, что они, пробуя то одну, то другую формы общественно-политического устройства, в течение десятилетий не могут найти ту, что будет отвечать интересам, по крайней мере, большинства их граждан. Из-за этого они сталкиваются с реакцией консервативных сил, пытающихся вернуться к прежним моделям поведения (идентичностям в их символическом значении): исламизму и трайбализму. Неудачи на этом пути ведут к социальному экспериментаторству и попыткам создать как нечто новое, так и вернуться в глубокую архаику. Это, в итоге, еще больше углубляет кризис этих обществ, поскольку не дает им возможности решать практические неотложные задачи, как внутренние – стабилизация политической ситуации в стране, так и внешние – включение страны в систему международных экономических и политических отношений. Серьезной проблемой является также и то, что мировое сообщество ожидает, что изменения в странах БСВ приведут к легитимации общественно-политических форм, соответствующих их представлениям о современных нормативных общественно-политических формах, внедрить которые странам БСВ не удалось из-за того, что их этнические и конфессиональные сообщества глубоко расколоты, и этот традиционный раскол порождает острые и непрекращающиеся конфликты.
Страны БСВ отстояли свой государственный суверенитет, но, как правило, это стало результатом народного сопротивления снизу благодаря солидарности населения на уровне мобилизации родоплеменных и религиозных общин, уже после того, как правительства этих стран потерпели поражение или были близки к нему. Проблемы стран БСВ не исчерпываются защитой суверенитета. Они находятся в переходном периоде, решая задачи государственного строительства и экономического развития. Но прежде всего им необходимо выработать общегосударственную идентичность, которая позволила бы преодолеть межэтнические и межконфессиональные противоречия. Долгие годы они пытались не примирить эти общины, а устранить их, следуя западным догмам строительства государства-нации. Эти попытки закончились неудачами в большинстве стран БСВ.
Это возможно сделать, только признав социально-политическую роль СТО на современном этапе и интегрировав их в общество через предоставление им места в органах представительной центральной и местной власти пропорционально их численности. Первые шаги к такому решению этой проблемы были сделаны в Ираке в 2019–2021 гг., когда была изменена избирательная система, что позволило расширить представительство СТО в органах законодательной и исполнительной ветвей власти. Но до победы далеко, поскольку часть этих изменений позже была купирована. Тем не менее ясно, что стабилизация политической ситуации в странах БСВ требует децентрализации политической власти и передачи значительного объема полномочий на местный уровень, где доминируют солидарные общественные структуры, имеющие уникальные идентичности.
Идентичность, формирующаяся на каждой территории, индивидуальна, поскольку все территории неповторимы по своим ландшафтным и композиционным характеристикам и этническому составу их населения. В этих практически уникальных условиях рождается каждый этнос или суперэтнос, если речь идет о сложных полиэтнических системах, типа китайской, арабской, российской, европейской или американской цивилизаций. Идентичность является комплексной, целостной характеристикой, отражающей исключительные особенности социально-политического устройства того или иного этноса, обусловленными длительным процессом его адаптации к вмещающей ландшафтной нише. Множество СТО – богатство общества, а не его беда. Негативное отношение к этому явлению было связано с его искаженным восприятием в рамках западных политических идеологий, а также в связи с умозрительными, неоправдавшимися представлениями о путях социально-экономического и политического развития стран БСВ.
1. Гринин Л. Е. Политические процессы в османском Египте // История и современность. 2007. №1, С. 64.
2. Рейснер Л.И. Разделение труда и способ общения в докапиталистических цивилизациях // Рейснер Л.И. Цивилизация и способ общения. М., 1993. С.24. 3. Кульпин-Губайдуллин Э.С. Социоестественная история; от метода к теории, от теории к практике. Волгоград, 2014. С. 52.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23. М., 1960. С. 371.
5. Парсонс Т. Система современных обществ. М.,1998. С.20.
6. Ленин В.И. О праве наций на самоопределение. // ПСС, Изд. 5, Т. 25. М., 1969. С. 260. 7. Турен А. Идея революции // Социологическое обозрение, 2014, Т. 13, № 1.С.98. 8. Алаев Л.Б. Сельская община. "Роман, вставленный в историю". Критический анализ теорий общины, исторических свидетельств ее развития и роли в стратифицированном обществе. М., 2016.
9. Наумкин В.В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: конфликтность, насилие, внешнее вмешательство // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика, 2015. №1. С.66-96.
10. Парсонс Т. Социальные системы // Вопросы социальной теории. 2008. Том II. Вып. 1(2). С. 46. 11. Там же.
12. Чешков М.А. Критика представлений о правящих группах развивающихся стран. М., 1979. С.10-11.
13. Шлыков П.М. Историческая динамика социальных протестов в Турции // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение, №: 4. 2015. С.37.
14. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерки истории (600-1258). М., 1988. Url: G_E_fon_Gryunebaum_-_Klassicheskiy_islam_Ocherk_istorii_600_1258_-_1988.doc Дата обращения: 25.04.2025.
15. Турен А. Указ. Соч. С.109.
16. Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Социальные размежевания и политические противостояния в научном дискурсе: критерии оценки и классификации. 2021. №5. С.57.
17. Грюнебаум Г. Указ. Соч. 18. Turchin P., Currieb T.E., Turner E.A. L., Gavrilets S. War, space, and the evolution of Old World complex societie // PNAS, October 8, 2013. Vol. 110, no. 41. 19. Грюнебаум Г. Указ. Соч.
20. Рейснер Л.И. Историческое общество как единство формационного и цивилизационного начал // Цивилизации. Выпуск 1. М., 1992. С.56.
21. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1. М., 1995. Url: https://yanko.lib.ru/books/cultur/heyzinga-autumn.pdf
22. Хёйзинга Й. Указ. Соч. 23. Meier Ch. A Culture of Freedom: Ancient Greece & The Origins of Europe. - Oxford, 2011. 24. Парсонс Т. Система современных обществ. М.,1998. С.35. 25. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2004. С.95.
26. Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и политическая проблема). - Политическая наука. 2013. № 3. С.71-72.
27. Панченко А.Б. Разделяя, властвовать: усложнение структуры как принцип устойчивости континентальных империй, Тетради по консерватизму, 2022, № 2. С.258.
28. Landes D.S. Why Europe and the West? Why Not China? // The Journal of Economic Perspectives. Vol. 20, No. 2 (Spring, 2006).
29. Бобокулов И. Государственное строительство Афганистана: децентрализация vs централизация // Центральная Азия и Кавказ. 2015. Т. 18. Выпуск 2. С.125-126.
30. Рейснер Л.И. Разделение труда и способ общения в докапиталистических цивилизациях. С.25.
31. Наумкин В.В. Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? // Полис. Политические исследования. 2020. №4.
32. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Соч., 2-е изд., Т. 23. М., 1960. С.725-773.
33. Турен А. Указ. Соч. С.100.
34. Воронин С.А. Нация или умма: исламский мир в поисках самоидентичности // Вестник РУДН, Серия: Всеобщая история. 2011. № 2. C.50.
35. Бартольд В.В. Теократическая идея и светская власть в мусульманском государстве // Бартольд В.В. Соч. Т. 6. C. 304. 36. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2016. С.45. 37. Там же. С. 257.
38. Алексеев И.Л. Династическая автократия и конкурентный трайбализм в средневековом мусульманском обществе: взгляд Ибн Халдуна // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2016. № 1 (3). С.93.















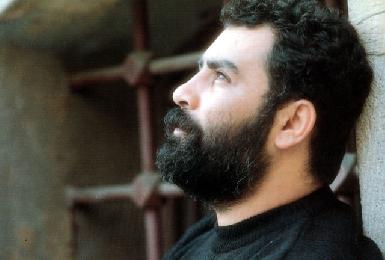









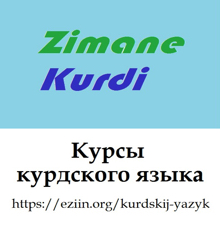


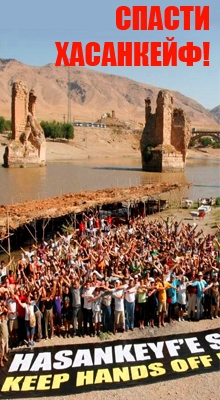


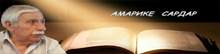

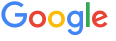 Переводчик
Переводчик